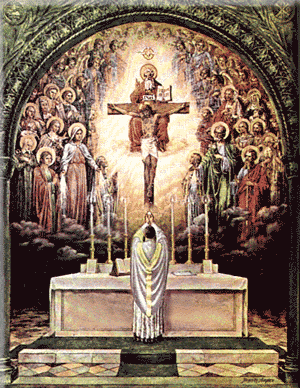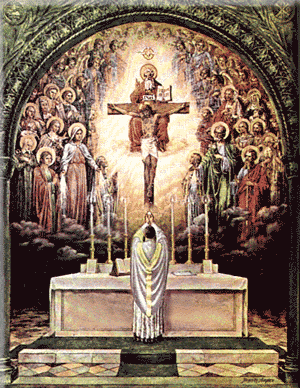


Богословие литургии
Второй Ватиканский Собор определил литургию как "дело Христа Священника и Его Тела, которое есть Церковь".
В том же тексте действие Иисуса Христа называется делом искупления, которое Он совершил прежде всего через пасхальную тайну Святых Страстей Своих, Воскресения из мертвых и славного Вознесения.
"Этой тайной Он смертию уничтожил нашу смерть и воскресением восстановил жизнь". На первый взгляд, выражение "дело Христа" в этих двух отрывках представляется имеющим два различных смысла. "Делом Христа" называется, прежде всего, Его историческое искупительное действие - Смерть и Воскресение; с другой стороны, так же именуется и литургия.
На самом же деле эти два значения неразрывно связаны: Смерть и Воскресение Христа, Пасхальная тайна, это не только внешние, исторические события. По отношению к Воскресению это совершенно очевидно. Оно соединено с историей и проникает в нее, но превосходит ее границы в двух аспектах: во-первых, это действие не человека, а Бога, а во-вторых, воскресая, Христос переходит за пределы истории, туда, где Он сидит одесную Отца. Но и Крест - не только лишь человеческое действие. Сугубо человеческая его составляющая представлена людьми, ведущими Иисуса на распятие. Для Самого Иисуса Крест прежде всего - не действие, а страдание, и притом страдание, обозначающее, что Он един с Божественной Волей - союз, драматический характер которого явлен нам в Гефсиманском саду. Таким образом, пассивное проявление претерпевания казни преобразуется в активное проявление любви: смерть становится Его преданием Себя Отцу ради людей. Таким образом, горизонт расширяется, как и в случае Воскресения, он уходит за пределы чисто человеческого и далеко за границы того, что Его приколачивают гвоздями ко кресту и Он умирает. Этот элемент, дополняющий сугубо историческое событие, - то, что язык веры именует "тайной", и в выражении "Пасхальная тайна" в сжатом виде содержится самая сокровенная суть искупительного события. Если отсюда можно вывести, что "Пасхальная тайна" - суть "дела Иисуса", ее связь с литургией становится очевидна: именно это "дело Иисуса" и составляет подлинное содержание литургии. В ней, по вере и молитве Церкви, "дело Иисуса" непрестанно соприкасается с историей, чтобы проницать ее. Таким образом, в литургии сугубо человеческое и историческое событие вновь и вновь превосходится и становится частью того богочеловеческого действия, которым является Искупление. В ней Христос - подлинное и главное действующее лицо и истинный ее носитель: это дело Церкви, но Он поворачивает историю так, чтобы оказаться в Ее фокусе, и происходит это именно в тот бесконечный момент, когда вершится наше спасение.
1. Жертвоприношение под вопросом
Вернувшись ко II Ватиканскому Собору, мы находим следующее описание этих отношений: "Литургия, в которой - прежде всего в Божественной Евхаристической Жертве - свершается дело нашего Искупления, в высшей степени содействует тому, чтобы верные выражали своей жизнью и являли другим тайну Христову и подлинную природу истинной Церкви".
Все это стало чуждо современному мышлению, и спустя всего тридцать лет после Собора ставится под сомнение даже некоторыми католическими литургистами. Кто сегодня говорит о "Божественной Евхаристической Жертве"? Идея жертвоприношения сегодня изумительно активно дискутируется среди католиков не в меньшей степени, чем среди протестантов. Люди понимают, что концепция, в разных формах всегда владевшая не только историей Церкви, но и всей историей человечества, должна выражать нечто, лежащее в самых основах и касающееся также и нас. Но в то же время повсеместно сохраняются и былые взгляды Просвещения: обвинения в магии и язычестве, противопоставление богослужения и служения Слова, обряда и нравственного духа, представление о христианстве, оставляющем богослужение и идущем в мир... Католические богословы боятся обвинений в несовременности. Даже если люди желают так или иначе вернуться к концепции жертвоприношения и заново открыть ее, в результате получается замешательство и критика. Так, Стефан Орт (Stefan Orth) в широком библиографическом обзоре последних работ, посвященных теме жертвоприношения, выводит следующее резюме: "Многие католики и сами придерживаются выводов Мартина Лютера, писавшего, что говорить о жертвоприношении - "величайшая и отвратительнейшая ошибка", "проклятое безбожие"; поэтому мы стараемся освободиться от любого привкуса жертвоприношения, в том числе от всего канона, и сохранить лишь то, что чисто и свято". Дальше Орт добавляет: "Этому правилу следовала, или, по меньшей мере, склонна была следовать, также и Католическая Церковь после II Ватиканского Собора, благодаря чему люди стали думать о богослужении прежде всего в терминах пиршества на праздник Песах, о котором рассказывается в повествованиях о Тайной Вечере". Ссылаясь на труд по вопросу о жертвоприношении, написанный двумя современными католическими литургистами, он говорит дальше, выбирая несколько более мягкие выражения, что понятие жертвоприношения мессы - еще больше, чем крестного жертвоприношения - ясно видится ему весьма подверженным разного рода неверным толкованиям.
Надо ли говорить, что я не отношусь к тем "многим католикам", которые считают упоминания о жертвоприношении мессы жуткой ошибкой и треклятым безбожием. Понятно, что автор обошелся без упоминания моей книги "Дух литургии", где идея жертвоприношения рассматривается во всех подробностях. Но все же его диагноз страшен. Верен ли он? Я не знаю этих "многих католиков", полагающих безбожным понимать Евхаристию как жертвоприношение. Однако же ясно, что второй, более осторожный, вывод Орта, согласно которому жертвоприношение мессы подвержено неверным толкованиям, как раз вполне правдоподобен. Даже если первое утверждение автора можно оставить без внимания как риторическое преувеличение, остается сложная проблема, которую приходится решать. Заметная партия в среде католических литургистов, похоже, пришла к заключению, что в споре XVI столетия прав, по сути, был Лютер, а не Тридентский Собор. То же мнение можно встретить, читая разгоревшиеся после II Ватиканского Cобора дискуссии по вопросу о священстве. Великий историк Тридентского Собора Юбер Жедин (Hubert Jedin) в 1975 году заметил в предисловии к последнему тому истории Тридентского Собора: "Внимательный читатель... придет не в меньшее смятение, нежели автор, поняв, что многое - едва ли не все - что будоражило людей в прошлом, сегодня вновь всплывает на поверхность". Лишь на этом фоне фактического отрицания авторитета Тридентского Собора можно понять всю остроту борьбы против того, чтобы и после литургической реформы позволить служение мессы по миссалу 1962 года. Возможность такого служения составляет главнейший и, следовательно, самый непереносимый (для них) довод против мнения считающих, будто вера в Евхаристию, сформулированная на Тридентском Соборе, ныне утратила важность.
Несложно собрать доказательства этому мнению. Оставлю в стороне экстремальную теологию литургии Гаральда Шютцайхеля (Harald Schützeichel), окончательно уходящего от католического учения и отважно утверждающего, например, будто идея Реального Присутствия возникла лишь в Средние века. Современный литургист вроде Дэвида Пауэра (David N. Power) расскажет, что в ходе истории может утратить значение не только способ изложения истины, но и излагаемое содержание. В конкретике он связывает свою теорию с утверждениями Тридентского Собора. Теодор Шниткер (Theodore Schnitker) считает, что соответствующая современным требованиям литургия включает не только иное выражение веры, но и богословские изменения. Более того: по его словам, некоторые теологи, по крайней мере - в кругах Римской Церкви и Ее литургии, еще не осознали всю важность влияния, оказываемого литургической реформой в области вероучения. Труд Р. Меснера (R. Meßner) о реформе мессы, произведенной Мартином Лютером и о Евхаристии в ранней Церкви, несомненно, достойный уважения и содержащий немало интересных идей, приходит, тем не менее, к заключению, что раннюю Церковь лучше понимал Лютер, нежели Тридентский Собор.
Серьезность этих идей проистекает из того факта, что часто они непосредственно переходят в практику. Тезис, согласно которому действующим лицом литургии является сама община, служит санкцией на манипулирование литургией согласно чьему угодно личному пониманию ее. Так называемые новые открытия и формы, следующие из них, разрастаются с изумительной быстротой, а готовность подчиняться чужому мнению сведена на нет до такой степени, что внимание к нормам, установленным церковными властями, давно уже исчезло. Теории в литургической области претворяются сегодня в практику практически моментально, а практика, в свою очередь, создает одни способы поведения и мышления и разрушает другие.
Проблема, тем временем, осложняется тем, что последние движения "просвещенной" мысли заходят куда дальше, чем зашел Лютер: там, где он все еще буквально понимал новозаветные рассказы об Установлении и положил их, как norma normans, в основание своих реформаторских усилий, гипотезы исторического критицизма давно уже приводят к масштабной эрозии текстов. Повествования о Тайной Вечере становятся продуктом литургической деятельности общины; между их строк ищут такого "исторического Иисуса", который не мог бы ни помышлять о даре Своего Тела и Крови, ни понимать Свой Крест как жертву искупления - вместо этого надо скорее воображать себе прощальный ужин, включавший эсхатологическую перспективу. В глазах многих падает значимость не только церковнго учительства, но и самого Писания. Их замещают изменчивыми псевдоисторическими идеями, на смену которым вскоре приходят другие, ничуть не менее произвольные, так что литургия отдается на милость моды. Там, где на основании подобных подходов литургией все свободнее манипулируют, верные чувствуют, что на самом деле никакого служения не происходит, - и понятно, что они покидают литургию, а вместе с нею и Церковь.
2. Принципы богословского исследования
Вернемся же к фундаментальному вопросу: верно ли говорить о литургии как о божественном жертвоприношении, или эти слова - проклятое безбожие? Для начала этой дискуссии необходимо прежде всего установить принципиальные предпосылки, которые в любом случае определяют прочтение Писания и, значит, выводы, из него делающиеся. Для христиан-католиков здесь существует два основных фактора герменевтики. Первый из них таков: мы доверяем Писанию и основываемся на Писании, а не на гипотетических реконструкциях, выходящих за его пределы и кроящих историю по своему вкусу, заранее "зная", что можно, а чего нельзя приписывать Иисусу - то есть, разумеется, приписывая Ему лишь то, что рад приписать современный ученый человеку, жившему во времена, воссозданные этим самым ученым.
Второй фактор - мы читаем Писание в живой общине Церкви и, следовательно, на основе фундаментальных решений, благодаря которым оно действует в истории, то есть тех постановлений, которые заложили основы Церкви. Нельзя отрывать текст от живого контекста. В этом смысле Писание и Предание формируют неразделимое целое, - именно этого не смог, на заре исторического знания, разглядеть Лютер. Он считал, что текст может иметь лишь одно значение, но это не так, и современная историография давно уже оставила эту идею. Важнейший ключ к пониманию - то, что в зарождающейся Церкви Евхаристия с самого начала понималась как жертвоприношение, о чем свидетельствует даже столь сложный и незначительный по сравнению со всем великим Преданием текст, как Дидахе.
Но в прочтении и толковании библейского свидетельства есть и еще один фундаментальный герменевтический аспект. То, могу ли я признать установленную Господом нашим Евхаристию жертвоприношением, зависит во многом от моих знаний о жертвоприношении. Фон, на котором развивалась мысль Лютера, особенно - его концепция отношений между Ветхим и Новым Заветами, понимание события и присутствия Церкви в истории, был таков, что категория жертвоприношения, как он его видел, не могла для него, кода применялась к Евхаристии и Церкви, представляться ничем, кроме безбожия. Споры, на которые ссылается Стефан Орт, показывают, сколь темно и путано понимают идею жертвоприношения практически все авторы, и ясно показывает, сколько еще тут нужно сделать. Для верующего богослова очевидно, что сущностному определению жертвоприношения должно учить его само Писание, а именно - "каноническое" прочтение Библии, при котором учитывается ее единство и поступательное развитие, различные стадии которого получают свое завершение во Христе, к Которому ведут. Этот стандарт предполагает, что герменевтика это герменевтика веры, основанная на внутренней логике таковой веры. Разве это не должно быть очевидно? Без веры само Писание - не Писание, а плохо составленный сборник литературных отрывков, не могущий претендовать на какое-либо нормативное значение для современного человека.
3. Жертвоприношение и Пасха
Задача, поставленная здесь, конечно же, не может быть решена в рамках одной лекции, так что позвольте мне еще раз сослаться на свою книгу "Дух литургии", в которой я постарался в основном обрисовать этот вопрос. Выводы, сделанные в ней, таковы, что на протяжении истории религий и библейской истории идея жертвоприношения имеет коннотации, выходящие далеко за пределы той сферы дискуссий, которую мы обычно с нею связываем. Она открывает путь к глобальному пониманию богослужения и литургии: эти огромные перспективы я и хотел бы здесь указать. Мне придется опустить частные вопросы экзегезиса, в том числе фундаментальную проблему, связанную с повествованиями об Установлении, ряд мыслей по поводу которой я постарался вложить не только в свою книгу о литургии, но и в написанные мною фрагменты работы "Евхаристия и миссия".
Есть, правда, одно замечание, которое я не могу не сделать. В вышеупомянутом библиографическом обзоре Стефан Орт пишет, что идеи жертвоприношения после II Ватиканского Собора стали избегать, и это заставило людей "думать о богослужении прежде всего в терминах пиршества на праздник Песах, о котором рассказывается в повествованиях о Тайной Вечере". На первый взгляд кажется, что формулировка двусмысленна: идет ли речь о рассказах о Тайной Вечере или же об иудейской Пасхе, на которую эти рассказы ссылаются для поддержания хронологической последовательности, но которую не описывают. Не будет ошибкой сказать, что иудейская Пасха, об установлении которой повествуется в 12-й главе книги Исхода, приобретает в Новом Завете новое значение. Именно там проявляется великое историческое движение - "переход" - начинающееся на первых страницах и ведущее к Тайной Вечере, ко Кресту и Воскресению Иисуса. Но самое удивительное в представлениях Орта это противопоставление между идеей жертвоприношения и Песахом. Ветхий Завет лишает тезис Орта всякого смысла, поскольку, начиная от правил Второзакония, с храмом связано заклание агнцев; даже и в более ранний период, когда Песах был еще семейным торжеством, забой ягнят для праздничного стола уже имел характер жертвоприношения. Поэтому именно в рамках традиции Песаха идея жертвоприношения переходит в слова и жесты Тайной Вечери, где присутствует также и на основании другого отрывка из Ветхого Завета - 24-й главы Исхода, где повествуется о заключении Завета на Синае. Там говорится о том, что люди были окроплены кровью заранее принесенных жертв, и что Моисей по этому случаю изрек: "Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих" (Исх 24:8). Новая, христианская Пасха поэтому ясно толкуется в повествованиях о Тайной Вечере как жертвенный акт, и на основании слов Тайной Вечери зарождающаяся Церковь знала, что Крест это жертвоприношение, поскольку без предвосхищаемой реальности Креста и Воскресения, во все века доступной через ее внутреннее содержание, Тайная Вечеря была бы ничего не значащим знаком.
Это странное противопоставление Песаха и жертвоприношения я упоминаю, поскольку оно представляет архитектонический принцип книги, опубликованной недавно Обществом св. Пия X, где утверждается, что между новой литургией Павла VI и предшествующей литургической традицией Католической Церкви существует догматический раскол. Раскол этот видится прежде всего в том факте, что отныне все толкуется на основании "пасхальной тайны", а не искупительного жертвоприношения Христа; утверждается, что категория пасхальной тайны - сердце литургической реформы, и именно это выдвигается в качестве доказательства разрыва с классическим учением Церкви. Понятно, что и в самом деле существуют авторы, подверженные подобному заблуждению; но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это именно заблуждение. На самом деле выражение "пасхальная тайна" ясно говорит о реалиях, имевших место во дни от Великого Четверга до утра Светлого Воскресенья: Тайная Вечеря это предвосхищение Креста, голгофской трагедии и Воскресения Господня. В выражении "пасхальная тайна" эти события видятся как единое целое, как - по формулировке Собора - "дело Христа", произошедшее в истории и в то же время превосходящее тот конкретный момент времени. Пасхальное богословие Нового Завета, беглый взгляд на которую мы бросили, дает понять именно это: кажущийся богохульным эпизод распятия Христа - искупительное жертвоприношение, спасительный акт примиряющей любви Бога, ставшего Человеком. Теология Песаха это теология искупления, богословие литургии искупительного жертвоприношения. Пастырь сделался Агнцем. Видéние агнца, появляющегося в истории Исаака, агнца, запутавшегося рожками в кустарнике и ставшего выкупом за мальчика, стало реальностью; Господь стал Агнцем, Он позволил связать Себя и принести в жертву, чтобы спасти нас.
Все это для современной мысли стало совершенно чуждо. Возмещение ("искупление") может еще значить что-то в рамках конфликтов между людьми и погашения долга вины, мешающего человеческим взаимоотношениям, но его не могут перенести на отношения между Богом и человеком. Это, конечно же, в большой степени результат того, что наши представления о Боге стали неясны, и мы приблизились к деизму. Теперь уже никто не может себе представить, что оскорбления со стороны людей могут ранить Бога, а тем более - что из-за них может стать необходимым искупление, подобное совершившемуся на Кресте Христовом. То же самое относится и к замещению одного другим: это вообще нам теперь непонятно - наши представления о человеке стали для этого слишком индивидуалистичны. Поэтому в основе кризиса литургии лежит изменившееся представление о человеке. Чтобы его преодолеть, недостаточно просто банализировать литургию и превратить ее в обычное собрание для братской трапезы. Но как уберечься от этих заблуждений? Как вновь открыть смысл того великого, что содержится в средоточии Креста и Воскресения? В конечном счете - не путем построения теорий и ученых размышлений, но лишь через обращение, через радикальную перемену жизни. Но можно выделить некоторые обстоятельства, способные открыть путь к этой перемене сердца, и здесь я хотел бы выдвинуть ряд предложений, разбив их на три стадии.
4. Любовь - сердце жертвоприношения
Первый этап, подготовительный, должен дать ответ на вопрос о сущностном смысле слова "жертвоприношение". Обычно люди думают, что жертвоприношение это уничтожение чего-нибудь ценного с человеческой точки зрения; уничтожая ценности, человек хочет посвятить их Богу, чтобы совершить символическое признание Его власти. На самом же деле уничтожение не чтит Бога. Бога нельзя почтить, убивая животных или делая еще что-нибудь подобное. "Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои", говорит Господь Израилю в Псалме 49(50):12-14. В чем же, в таком случае, состоит жертвоприношение? Не в уничтожении, не в каких-нибудь предметах, а в изменении человека. В том факте, что человек подчиняется Богу. Он подчиняется Богу, когда становится любовью. "Поэтому истиной жертвой бывает всякое дело, которое совершается нами из желания быть в святом общении с Богом", - говорит Августин.
Пользуясь этим ключом, взятым из Нового Завета, Августин интерпретирует ветхозаветные жертвоприношения как символы, указующие на сие жертвоприношение в собственном смысле этого слова, и вот почему, говорит он, богослужение должно было трансформироваться, и символ уступить место реальности. "Все, что различным образом предписано было насчёт жертв в скинии или храме, - все это служило для обозначения любви к Богу и ближнему" ("О граде Божием", X, 5). Но Августин знает также, что любовь становится истинной лишь тогда, когда ведет человека к Богу и, следовательно, к его подлинной цели; лишь она одна может также и принести единство в среду самих людей. Поэтому понятие жертвоприношения относится к общине, и первое определение, данное Августином, расширяется последующим: "Весь этот искупленный град, т. е. собор и общество святых, приносится во всеобщую жертву Богу тем великим Священником, Который принес и самого Себя" (там же, X, 6), и, проще: "Сами мы составляем... жертву", и снова: "Мы многие составляем одно тело во Христе. Вот жертва христианская!" (там же, X, 6). Жертвоприношение состоит, повторим мы, в процессе трансформации, в подчинении человека Богу, в его теоисисе, как сказали бы Отцы, или, если выражаться более современным языком, в устранении различия - в союзе между Богом и человеком, между Богом и творением: "Бог все во всем" (1Кор 15:28).
Но как происходит этот процесс, обращающий нас в любовь и во единое тело со Христом, делающий нас единым с Богом; как случается упразднение различия? Здесь существует, прежде всего, четкая граница между религиями, основанными на вере Авраама, с одной стороны - и, с другой, иными религиозными формами, подобными тем, что мы находим, в частности, в Азии, и основанными, вероятно, на азиатских традициях в плотиновском духе неоплатонизма. Там единство означает освобождение в той степени, в какой имеется в виду самоощущение конечной личности, которая в конечном счете видится лишь фасадом; растворение личности в океане чего-то совершенно иного, которое, по сравнению с нашим миром фасадов, есть ничто, являющееся, однако же, единственным истинным бытием. В христианской вере, дающей завершение вере Авраама, единство понимается совершенно иначе: это союз любви, в котором различия не уничтожаются, а преображаются в высшую форму единства тех, кто любит друг друга, подобно как это происходит - архетипически - в Троичном Единстве Бога. Тогда как, например, для Плотина конечность это отпадение от единства и, так сказать, зародыш греха, а следовательно - и всякого зла, христианская вера рассматривает ее не как отрицание, а как творение, плод божественной воли, создающей Себе свободного партнера, которого нужно не уничтожить, а привести к наиболее полному виду, который должен вложить себя в свободный акт любви. Различие не устраняется, а становится средством высшего единства. Эта философия свободы, лежащая в основе христианской веры и отличающая ее от азиатских религий, включает и возможность обратного. Зло это не просто отпадение от бытия, это последствие злоупотребления свободой. Путь единства, путь любви, следовательно - путь обращения, путь очищения: он принимает очертания Креста, он проходит через Пасхальную тайну, через смерть и воскресение. Ему нужен Посредник, Который, Своей Смертью и Своим Воскресением становится для нас путем, приводит нас всех к Себе и этим нас довершающий (Ин 12:32).
Оглянемся же на то, что сказали. В своем определении - жертвоприношение есть любовь - Августин верно подчеркивает фразу, которую в разных вариантах можно найти и в Ветхом, и в Новом Завете, а он цитирует по книге пророка Осии: "Я любви хочу, а не жертвы"* (Ос 6:6; св. Августин, "О граде Божием", X, 5). Но эти слова не просто противопоставляют нравственный дух и богослужение - тогда христианство свелось бы к морализму. Они относятся к процессу, выходящему за рамки моральной философии - к процессу, инициатором которого является Бог. Он Один может поставить человека на путь к любви. Только лишь любовь, которою любит Бог, позволяет возрастать нашей любви к Нему. То, что нас любят - процесс очищения и преображения, в котором мы открываемся не только Богу, но и друг другу. У инициативы Бога есть имя: Иисус Христос, Бог, Сам ставший Человеком и отдавший Себя нам. Вот почему Августин может подвести всему итог, говоря: "Мы многие составляем одно тело во Христе. Вот жертва христианская! Это-то Церковь и выражает известным для верующих таинством алтаря, которым показывается ей, что в том, что она приносит, приносится она сама" (там же, X, 6). Всякий, кто это понял, не будет больше считать, будто говорить о жертвоприношении мессы по меньшей мере амбициозно, а то и ошибочно. Напротив: если мы этого не помним, то теряем из виду величие того, что дарует нам Бог в Евхаристии.
5. Храм новый
Теперь я хотел бы упомянуть - и снова очень кратко - два других подхода. Мне кажется, важное указание дается в сцене очищения храма, особенно в той форме, которую передал нам евангелист Иоанн. Он, собственно, доносит до нас фразу Иисуса, которая у синоптиков звучит лишь в рассказе о суде над Ним, из уст лжесвидетеля и в искаженном виде. Реакция Иисуса на торговцев и меняльщиков в храме была направлена, в том числе, и против принесения в жертву животных, которое там совершалось, а значит - против существовавшей формы богослужения и формы жертвоприношения вообще. Вот почему - вполне обоснованно - компетентные иудейские власти спросили Его, каким знамением Он оправдывает свои действия, которые невозможно было истолковать иначе, нежели направленные против закона Моисеева и священных предписаний Завета. На это Иисус отвечает: "Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его" (Ин 2:22). Теперь нам понятно, что храм был упразднен в момент распятия Иисуса: согласно Иоанну, Он был распят в тот самый миг, когда в храмовом святилище забивали пасхальных агнцев. Миг, когда Сын становится агнцем, то есть добровольно приносит себя Отцу и, следовательно, нам, кладет конец старым богослужебным предписаниям, которые могли быть лишь символами истинных реалий. Храм "разрушается". Отныне Его воскресшее тело - Он Сам - становится истинным храмом человечества, в котором происходит поклонение в духе и истине (Ин 4:23). Но дух и истина это не абстрактные философские категории - Он Сам есть истина, а дух - это Дух Святой, от Него исходящий. Здесь также становится совершенно ясно, что богослужение не заменяется нравственной философией, а прекращается древнее богослужение, с его заменами и часто трагическими недопониманиями, поскольку сама реалия проявляется в новом храме: воскресший Христос, привлекающий нас к Себе, преображает нас и объединяет с Собою. Снова ясно, что Евхаристия Церкви - говоря словами Августина - это таинство истинного жертвоприношения, священный знак, в котором происходит обозначаемое.
6. Жертвоприношение духовное
Наконец, я хотел бы столь же кратко очертить и третий путь, позволяющий яснее понять, как происходит переход от богослужения замены, то есть принесения в жертву животных, к истинному жертвоприношению, к общности с жертвой-Христом. Пророки, жившие до изгнания, нередко порицали храмовое богослужение в самых жестких словах, которые первомученик Стефан, к ужасу книжников и храмовых священников, повторяет в своей великой речи, цитируя, прежде всего, стих из книги Амоса: "Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя" (Ам 5:25-26, Деян 7:42-43). Эта критика, звучавшая из уст пророков, заложила духовное основание, давшее Израилю возможность преодолеть тяжелые времена после разрушения храма, когда богослужение стало невозможно. В эту пору Израиль обязан был глубже и по-новому понять, что есть суть богослужения, искупления, жертвоприношения. В период эллинистической диктатуры, когда Израиль вновь лишился храма и жертвоприношения, в книге Даниила звучит такая молитва: "Мы умалены, Господи, паче всех народов... и нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка.... ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и обрести милость Твою. Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты. Как при всесожжении овнов и тельцов и как при тысячах тучных агнцев, так да будет жертва наша пред Тобою ныне благоугодною Тебе; ибо нет стыда уповающим на Тебя. И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем и боимся Тебя и ищем лица Твоего" (Дан 3:37-41).
Так постепенно вызрело понимание того, что молитва, слово, человек молящийся и сам становящийся словом - это истинное жертвоприношение. Борьба Израиля могла здесь войти в плодотворный контакт с исканиями эллинистического мира, который и сам пытался найти способ уйти от богослужения замены, от принесения в жертву животных, чтобы обрести богослужение в собственном смысле этого слова, подлинное поклонение, подлинное жертвоприношение. Этот путь привел к идее logike tysia - жертвоприношения [состоящего] в слове - которую мы встречаем в Новом Завете в Рим 12:1, где апостол увещевает верующих предоставить самих себя "в жертву живую, святую, благоугодную Богу": это то, что называется logike latreia, божественная служба по слову, в которой участвует разум. То же самое, в другой форме, мы находим в Евр 13:15: "Итак будем через Него [Христа] непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его". Многочисленные примеры из Отцов Церкви показывают, как эти идеи развивались и становились точкой соприкосновения между христологией, верой в Евхаристию и претворения Пасхальной тайны в экзистенциальную практику. В качестве иллюстрации приведу несколько строк из Петра Хризолога (хотя имеет смысл прочесть всю эту его проповедь целиком, от начала до конца):
"Странное это жертвоприношение, когда тело приносит себя без тела, кровь без крови! Прошу вас, говорит апостол, милостью Бога принести себя в жертву живую.
Братия, жертвоприношение это вдохновлено примером Христа, принесшего Свое Тело, дабы люди могли быть живы... Стань, человече, стань жертвою Богу и Его священником... Бог ищет веры, а не смерти. Обета твоего Он жаждет, а не крови твоей. Рвение радует Его, а не убиение".
Здесь тоже речь идет о чем-то совершенно отличном от простого морализма, поскольку человек берется во всей целостности его существа: жертвоприношение в словах - то есть греческие мыслители уже связали его с logos, с самим словом, показывая, что жертвоприношение молитвы должно быть не просто словами, а претворением нашего существа в logos, нашим союзом с ним. Богослужение требует, чтобы мы стали существами слова, чтобы мы подчинились творящему Разуму. Но здесь снова ясно, что этого мы не можем сделать сами по себе, и кажется, что все опять закончится бесплодно - так будет до дня, когда Слово придет, когда придет истина, Сын, когда Он станет плотью и возьмет нас с Собою в Исход Креста. Это истинное жертвоприношение, преображающее в жертву нас всех, то есть объединяющее нас с Богом, делающее из нас существ, Богу подчиненных, воистину утверждено и основано на историческом событии, но располагается не в прошлом, у нас за спиной - напротив, оно становится для нас современным и доступным в общине верующей и молящейся Церкви, в ее таинстве: вот каков смысл понятия "жертвоприношение мессы".
Я уверен, что ошибка Лютера состояла в неверной идее историчности, в плохом понимании единства. Жертвоприношение Христа находится не в прошлом. Оно затрагивает все времена и происходит для нас в настоящем. Евхаристия - не просто распространение чего-то, приходящего из глубины времен, а скорее присутствие Пасхальной тайны Христа, Который превосходит и объединяет все эпохи. Если в Римском каноне упоминаются Авель, Авраам и Мельхиседек - упоминаются среди тех, кто служил Евхаристию, то это потому, что мы убеждены: также и в них, великих жертвователях, Христос шел через время, или, лучше сказать, они в своем поиске приближались ко встрече со Христом. Богословие Отцов, кроющееся в этом каноне, не отрицает тщетность и недостаточность дохристианских жертвоприношений, но канон включает имена Авеля и Мельхиседека, "святых язычников", в тайну Христа. Здесь - и то, что все, бывшее прежде, недостаточно и подобно тени, но и то, что Христос привлекает всех к Себе, что даже и в языческом мире есть предуготовление к Евангелию, что даже несовершенные элементы могут вести ко Христу, как бы ни нуждались они в очищении.
7. Христос - главное действующее лицо литургии
И вот к какому выводу меня это приводит. Богословие литургии означает, что Бог через Христа действует в литургии, и что мы не можем действовать иначе, как через Него и с Ним. Сами по себе мы не способны построить дорогу к Богу. Путь этот не открывается, если только Сам Бог не становится путем. И снова, пути человеческие, к Богу не ведущие, не есть пути. Богословие литургии означает, далее, что в литургии Сам Логос говорит с нами; и не только говорит - Он приходит с Телом и Душою, с Плотью и Кровью, с Божеством и Человечеством, чтобы объединить нас с Собою, чтобы соделать нас "единым телом". В христианской литургии присутствует вся история спасения, даже больше - вся история человека, ищущего Бога, и вот - он находит. Христианская литургия есть литургия вселенская - она охватывает все творение, которое "с надеждою ожидает откровения сынов Божиих" (Рим 8:19).
Тридентский Собор не ошибся - он опирался на прочное основание Традиции Церкви. Его стандарты по-прежнему достоверны. Но мы можем и должны понимать глубже, черпая из сокровищницы библейского свидетельства и из веры Церкви всех веков. Есть верные признаки, позволяющие надеяться на то, что возрожденное, углубленное понимание Тридентского Собора могло бы быть доступно, особенно - через посредничество Восточных Церквей, и христианам-протестантам.
Одно должно быть ясно: литургия - не площадка для экспериментов с богословскими гипотезами. В последние десятилетия идеи специалистов слишком поспешно входили в литургическую практику, часто проходя мимо внимания церковных властей, "благодаря" усилиям комиссий, которым удавалось распространить на международном уровне свое "понимание момента" и превратить его в обязательные для всех правила литургической деятельности. Литургия черпает свое величие из того, что она есть, а не из того, что мы из нее сделаем. Наше участие, конечно же, необходимо, но как средство нашего смиренного вхождения под сень духа литургии и служения Тому, Кто есть ее главное действующее лицо: Иисусу Христу. Литургия - не выражение самоощущения общины, которое, в любом случае, нечетко и изменчиво. Это откровение, принимаемое в вере и молитве, и мера ее - вечная вера Церкви, в которой принимается откровение. Формы, которые придаются литургии, могут различаться в зависимости от места и времени, как различны и сами обряды. Но важна связь с Церковью, которая, со своей стороны, объединена верою с Господом. Послушание веры обеспечивает единство литургии, превосходящее границы места и времени. Почувствуем же единство Церкви - Церкви, в которой родина нашего сердца.
Суть литургии, наконец, подытожена в молитве, которую передали нам святой Павел (1Кор 16:22) и Дидахе (10:6): "Maran atha - Господь наш здесь - гряди, Господи!" Отныне и до века в литургии совершается Парусия, и в особенности - потому, что в ней мы учимся восклицать: "Гряди, Господи Иисусе!" - и смотреть встречь Господу грядущего. И всегда, вновь и вновь, мы слышим ответ, в котором не можем усомниться: "Се, гряду скоро" (Откр 22:12,20).